Симметрия в данном произведении определяется кольцеобразностью композиции. Действия комедии «Ревизор» начинаются и заканчиваются приездом ревизора. В первых словах комедии городничий сообщает приглашенным чиновникам: «К нам едет ревизор». Предпоследнее явление V акта начинается подытоживающими все происшедшее в комедии словами почтмейстера: «Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор».
Сходны слова, выражающие реакцию тех, кому это сообщается.
 В I действии чиновники реагируют на слова городничего вопросом: «Как ревизор?» Подобная же реакция присутствует в V действии на сообщение почтмейстера: «Как не ревизор?» Любопытно продолжение смыслового параллелизма и дальше. В I действии городничий продолжает: «Ревизор из Петербурга …», а почтмейстер в V действии говорит: «Совсем не ревизор …», дальше, как в I действии, так и в V, ссылка на письма: в I действии городничий опирается на письмо Чмыхова, в V действии почтмейстер ссылается на письмо, посланное Хлестаковым в Петербург.
В I действии чиновники реагируют на слова городничего вопросом: «Как ревизор?» Подобная же реакция присутствует в V действии на сообщение почтмейстера: «Как не ревизор?» Любопытно продолжение смыслового параллелизма и дальше. В I действии городничий продолжает: «Ревизор из Петербурга …», а почтмейстер в V действии говорит: «Совсем не ревизор …», дальше, как в I действии, так и в V, ссылка на письма: в I действии городничий опирается на письмо Чмыхова, в V действии почтмейстер ссылается на письмо, посланное Хлестаковым в Петербург.
Таким образом, сюжетная линия комедии композиционно обрамляется двумя письмами: письмом Чмыхова и письмом Хлестакова. Первое письмо извещает о приезжающем ревизоре, за которого напуганные чиновники и приняли Хлестакова. Второе письмо выясняет лицо Хлестакова и ошибку чиновников во главе с городничим. Сюжетная линия получает свое органическое завершение.
Наконец, оригинальность кольцеобразной композиции и в том, что как в первой реплике комедии, принадлежащей городничему, сообщается о том, что едет ревизор, так и в самых последних словах комедии, в единственной реплике жандарма, говорится о приехавшем чиновнике из Петербурга: «Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице». Действие комедии развертывается чрезвычайно стремительно, последовательно и мотивированно, и чем больше напряжения и динамичности приобретает действие, тем больше разоблачительного смеха вызывают поступки и слова действующих лиц.
Последнее явление «Ревизора», вторая развязка комедии, лишена комизма и полна для чиновников настоящего драматизма: над ними нависла грозная кара, это состояние их находит свое воплощение в заключительной «немой сцене», являющейся вполне естественной концовкой и вместе с тем нововведением Гоголя-драматурга.
Прослеживая симметричность композиции комедии как одно из важных средств раскрытия идейного содержания произведения, можно наглядно почувствовать единство формы и содержания произведения, понять, что развитие действия в пьесе – основа комедии.
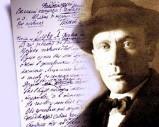 Симметрия в повести «Собачье сердце» М.А.Булгакова
Симметрия в повести «Собачье сердце» М.А.Булгакова
Написанная в январе – марте 1925 года, повесть завершает цикл ранних сатирических произведений писателя и одновременно предвосхищает его последние романы – в отношении содержания, образов, сюжетных элементов и, конечно, композиции. Композиция этой повести основана на конфликте двух центральных персонажей – Шарикова и профессора Преображенского. Именно в этом конфликте раскрывается сущность каждого персонажа. Шариков отстаивает идею мира Нового Советского государства, а профессор Преображенский защищает мир старой России. Автор делает основной акцент на противопоставление этих миров. Оно выражается не только отдельными моментами сюжета, но и композиционными особенностями построения повести. Все это произведение можно разделить на две части. В первую часть можно включить события, происходящие до операции, а во вторую часть происшествия после операции. Эти части симметричны относительно друг друга, потому что в их построении присутствуют одинаковые элементы. В обеих частях есть пролог. К первой части прологом является описание жизни Шарика на улице, которое дается в первой главе. Автор создает обстановку вселенского катаклизма. II-III главы I части являются экспозицией, которая знакомит нас с обитателями дома на Пречистинке, с образами их жизни и мыслей, с характерами персонажей. Как пролог, так и эти главы даны в основном глазами собаки – прием отстранения, позволяющий автору «спрятать» свое отношение к происходящему и в то же время наиболее полно раскрыть характер наблюдателя через его восприятие событий и их оценку. Автор лишь фиксирует действие, избегая его прямого комментирования, но его ироническая улыбка – в деталях, в композиции: в столкновении реплик, оценок, поведении персонажей. IV глава – кульминация и развязка I части – операция и предполагаемая смерть Шарика. Эта сцена излагается непосредственно автором, подмечающим неоднозначное впечатление от происходящего. II часть, как и I, открывается своеобразным прологом, которым служит дневник доктора Борменталь (V глава). Автор отдает повествование о чудесном превращении собаки в человека медику-профессионалу, отмечающему факты, но не обладающему опытом и проницательностью своего учителя профессора Преображенского. Переполняющие Борменталя восхищение, недоумение, надежды отражаются в изменении почерка, что и отмечает автор, якобы не берущийся судить о фантастических событиях. Подобный прием интригует читателя, который вместе с Борменталем и Преображенским пытается разобраться в происходящем. В VI-IX главах рассказ об эволюции «нового человека» ведет автор, единственный, кто может держать в поле зрения всех персонажей и объективно изложить все детали совершающейся катастрофы. Он не передает наблюдение Шарикову, как это делал в первой части с Шариком, так как, в отличие от собаки, у этого человека мысли обнаружить невозможно.
Конец IX главы рассказывает о новой операции. События в первой и второй частях повторяются: выбор имени, посещение Филиппа Филипповича домкомом, безобразие, учиненное Шариком и Шариковым (сова и кот), обед, размышления профессора перед операциями, разговоры с доктором Борменталем, операция, - но тем сильнее дросаются в глаза изменения, происходящие в доме и в людях.
Завершает повесть эпилог, в котором ситуация, благодаря чудесному мастерству профессора Преображенского, возвращена к исходному состоянию первой части – двойное кольцо замкнулось

 Дополнительный материал
Дополнительный материал
Симметрия и круг в произведении "Москва-Петушки" В.Ерофеева